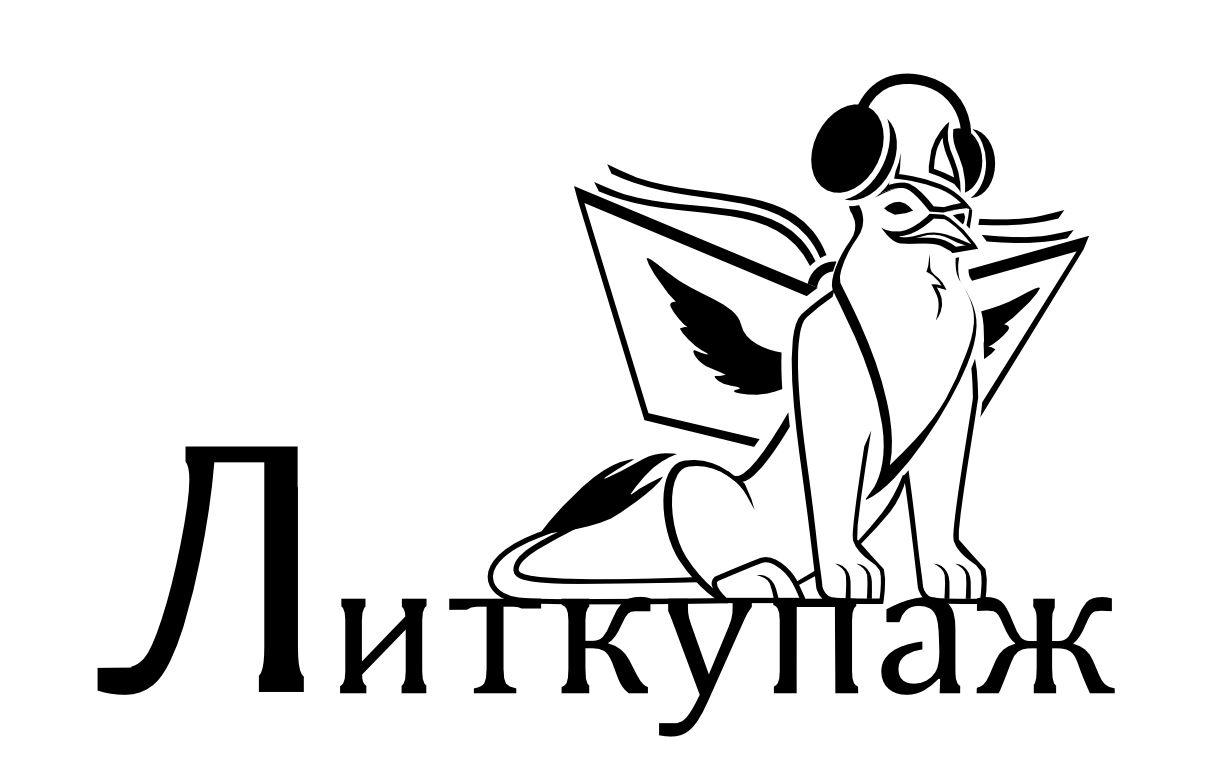25.06.2024

Евгения Джен Баранова — поэт, прозаик, переводчик, главный редактор журнала-издательства «Формаслов». Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Звезда», «Новый журнал», «Новый Берег», «Интерпоэзия», Prosodia, «Крещатик», Homo Legens, «Новая Юность», «Кольцо А», «Зинзивер», «Сибирские огни», «Дети Ра», «Лиterraтура», в «Независимой газете» и других изданиях. Лауреат премии журнала «Зинзивер» (2017), лауреат премии имени Астафьева (2018), лауреат премии журнала «Дружба народов» (2019), лауреат межгосударственной премии «Содружество дебютов» (2020). Финалист премии «Лицей», обладатель спецприза журнала «Юность» (2019). Шорт-лист премии имени Анненского (2019) и премии «Болдинская осень» (2021). Участник арт-группы #белкавкедах. Автор пяти поэтических книг, в том числе сборников «Рыбное место» (СПб.: «Алетейя», 2017), «Хвойная музыка» (М.: «Водолей», 2019) и «Где золотое, там и белое» (М.: «Формаслов», 2022). Стихи переведены на английский, греческий и украинский языки. Живёт в Москве.
Евгения Джен Баранова
Невидимый дождь
Москва
Миллионнолицый, миллионнопорый,
миллионноглазый ангел мой!
Только ли со мной ты водишь разговоры,
хороводы-воды над рекой?
Заползаешь в тело прихотью воздушной —
древоточцем в кресло из ольхи.
Был Данила-мастер, только пропил душу,
разменял на чипсы малахит.
Что же мне, южанке, делать с этим взглядом —
голубым, зеркальным, ледяным.
Миллионногубый, ты же привкус ягод,
золотая Азия и дым.
И куда мне деться от своей отваги,
от дремотных улиц калача?
Смоква, бог куриный, счастье на бумаге,
теремок, не спящий по ночам.
Отрепьев
Не бродить по Тушино, как вор,
не тушить капусту для своих.
Смутных мыслей взломанный простор —
танец или бабочка парит.
Или крик в луженую гортань
мастером впечатанный немым.
Не томить в околице герань.
Не хранить в хрусталиках жасмин.
Ворожит пропащая Москва:
клюква-брюква, чудо на бобах.
Я иду с Отрепьевым, едва
стылого касаясь рукава.
Где печаль, Григорий, где просчет?
где Марина — пена-синева?
Я иду с Отрепьевым, еще
мало понимая, что жива.
Что не мне багряным родником
согревать народное добро.
Не искать отдушины ни в ком.
Не бродить по Тушино, не бро…
Тихие дни в Москве
Любим любимой тихо говорил,
что не хватает в номере чернил.
Ну, как тут не повеситься Любиму?
Такие дни стоят, что хоть в Клиши,
хоть в Лобне о незнаемом пиши.
Пищи, покуда часть неотделима
от целого.
Как выдумать закат,
когда лишь снег, хитер и ноздреват,
является за мартовской зарплатой?
Не вымечтать тропическую чушь.
Здесь тихо так, что даже чересчур.
Не поискать ли в небе виноватых?
Не спиться ли, не спятить ли, не спеть.
Мне кажется, я снежная на треть,
на две другие — сахар и позёмка.
Осталось подождать, авось вернёт
брильянтовую зелень белый йод,
авось отыщет в женщине ребёнка.
Дом на набережной
Время уходит.
Время.
Время всегда уходит.
Девочками на пляже
просит не провожать.
Путается в тельняшке тканевый пароходик.
Падает на лужайку чистый чужой пиджак.
Дети кремлёвских спален слушают пианино.
Радионяня Сталин ловит остывший дым.
Время летит над всеми набережной недлинной.
Время летит над нами Чкаловым молодым.
Фабрика-комсомолка не выключает примус.
Главная рыба рыщет, маленькая клюёт.
Скоро шальную шею у головы отнимут.
Синий платочек треплет радуга-самолёт.
***
Он говорил:
«Возвращайся из Питера,
скажешь — пойдем на Вернадку,
будем слоняться, как наши родители
по первомайской брусчатке;
ты хороша, как форель золотистая,
как белоплечий орлан.
Будем наивны и будем неистовы».
(Мне это кажется, мам?)
Он говорил в подмосковном автобусе
«Съездим хотя бы в Рияд».
Я замечала, как светлые волосы
в синем закате горят.
Я замечала, как лоб его хмурится,
родинок след пулевой,
как из-под снега пустынные улицы
сонно блестят чешуей.
Он говорил о Толстом и Набокове,
о Куприне — никогда,
об альпинистах в заброшенном логове.
Я его слушала, да.
Коммунарка
Мне нравится твое «звонил»,
(тогда мне делается жарко),
ползет оранжевый акрил
над полигоном «Коммунарка»,
ползут деревья и дома
в туман / в субботу/ в спячку / в зиму
и я целую из окна
их нумерованные спины.
Со мною говорит Эфрон,
древесный вид его смущает.
Зачем я выбрала здесь дом,
зачем пришла сюда с вещами?
Над непогашенной луной —
лишь ягоды со вкусом стали.
Молчит пропущенный дверной.
И мы молчали.
В метро
О подозрительных предметах
не говорите машинисту.
А вдруг там облако в кальсонах,
креветка, утица, фонарь.
А вдруг там Панночка, а вдруг там.
Хотя о чём я? Только чистый
испуг, отмеченный приливом,
застывший в бабочке янтарь.
О подозрительных контактах
не сообщает микросхема.
Под нашим куполом несложно
любых во всём подозревать.
Состав скрипит, состав получен
от Одиссеевой триремы,
он скручен мышцей икроножной
и обречён не успевать.
О сколько зрителей ненужных
закрыто в банке из-под джема!
Стеклянный видится зверинец
в краю седых пуховиков.
Как подозрительные лица,
глядят на рельсы хризантемы.
И я стою внутри вагона,
как подозрительный Иов.
***
Поезд дальше не поедет.
Просьба выйти из вагона.
Чай, не маленькая. Чаю!
с мёдом, с мятой, с молоком.
Черепна моя коробка.
Тяжела моя попона.
Кто там щёлкает грозою?
Кто хрустит дождевиком?
Кто мелькает в сиплых тучах,
притворившись гражданином
с нижней лестничной площадки?
Или, скажешь, не похож
Поезд дальше не поедет.
Забирай своё, рванина.
И вот этого Ивана,
И Степановну — под дождь.
И пошли они отрядом,
кто с пакетами, кто с внуком,
кто с тележкой продуктовой,
кто с ровесником вдвоём.
И остались только пятна.
И осталась сетка с луком.
И остался тихий поезд
под невидимым дождём.