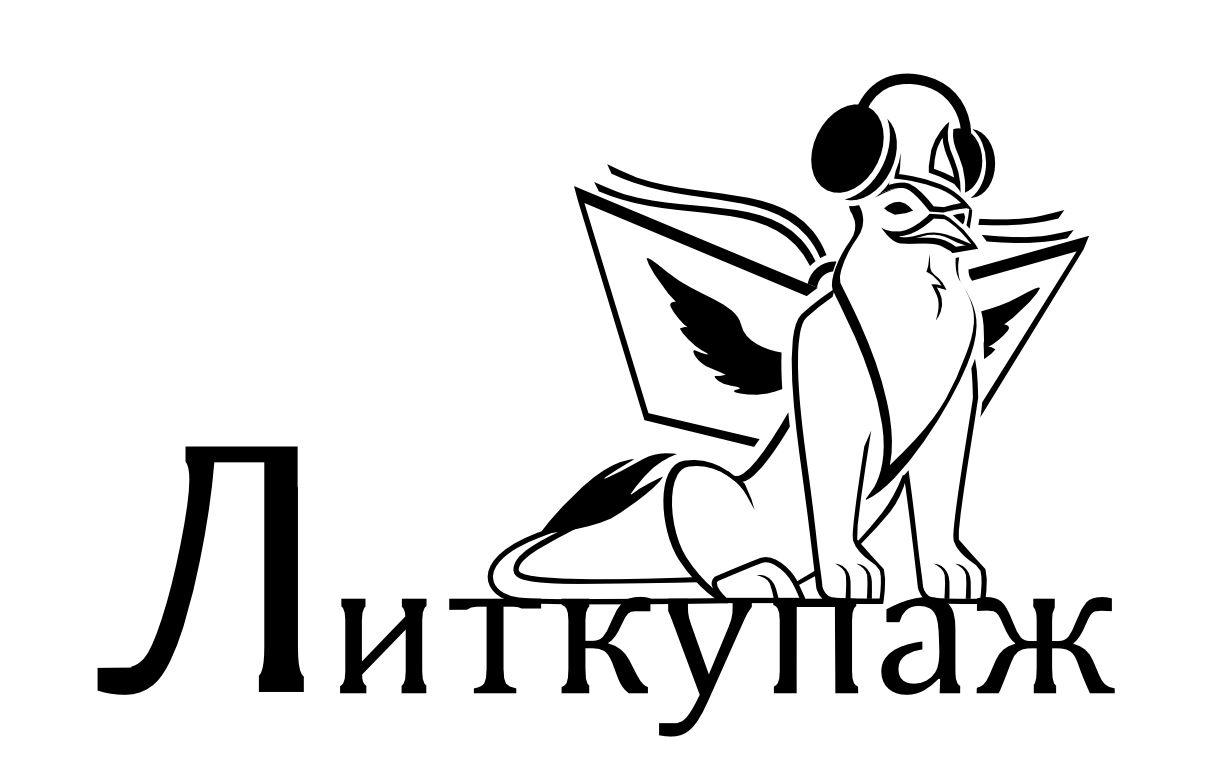25.05.2024

Геннадий Калашников родился в 1947 году в Тульской области. Закончил МГПИ на Пироговке. Первая публикация стихов — мартовский номер журнала «Юность» за 1971 год. Работал в «Литературной газете», в издательстве «Эксмо». Публиковался в журналах «Юность», «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Грани», «Плавучий мост», «Новый берег», «Дарьял», «Балтика». Автор нескольких книг стихов: «Ладонь» (1984), «С железной дорогой в окне» (1995), «Звукоряд» (2007), сборника стихов и прозы «Каво люблю…» (2017), «В центре циклона» (2018), «Ловитва» (2022).
Стихи Калашникова были представлены в антологиях «Русская поэзия. ХХ век» (2001), «Русская поэзия. ХХI век» (2010). Переводчик стихов с языков народов СССР. Дипломант Всесоюзного конкурса им. М. Горького за лучшую первую книгу (1984), премии «Московский счет» за лучшую книгу года (2007), Международного Тютчевского конкурса «Мыслящий тростник» (2015), премии Пушкинского общества Америки «Душа в заветной лире» (2016), диплом «Золотое перо Тулы» (2020), диплом в номинации Ярославского поэтического конкурса «О времени и о себе», диплом (первое место) в номинации «Монолог поэта» (2021). Дипломант (первое место) литературной премии «Антоновка» (2021).
Член Союза российских писателей. Член Правления Союза российских писателей, заместитель председателя приемной комиссии. Член жюри многих литературных конкурсов и фестивалей. Живет в Москве.
Геннадий Калашников
Троллейбус вынырнул из тьмы
***
В июньских Сокольниках шторка
раздвинулась дождевая.
Как хлеба шершавая корка,
теплом отдает мостовая.
И как часовые пружины,
что время свое отсчитали,
на лужах лежат недвижимо
бензина павлиньи спирали.
Земным воплощением мига,
весь желтыми бликами краплен —
трамвай, пробегающий мимо
деревьев, роняющих капли.
***
В притихшем парке вдалеке
оркестр играет под сурдинку,
моторка на Москве-реке
стучит, как швейная машинка.
Мне жаль осеннюю швею,
она весь день кроит, кромсает.
Твою судьбу, судьбу мою
швом сострочить не совладает.
Струят последнее тепло
сухие плиты парапета.
Спрошу — и не дождусь ответа,
и лето в Лету отошло.
Над попрозрачневшей водой
под тонким небом серебристым
мелькают велосипедисты
по эстакаде ветровой.
Они промчатся в даль и в тень,
и в колесе сольются спицы.
Запомнить музыку и день —
он никогда не повторится.
Жара
Асфальт размяк, листва в испарине,
и город глух, как после выстрела.
Он весь лежит на дне аквариума,
вода давно откуда вытекла.
Архангел круг над ним вычерчивает
над сетью улиц варикозной,
уже крылом одним зачерпывая
придвинувшийся сумрак грозный.
Уже он различает вывески,
влечет его поток воздушный
вдоль по реке, навеки высохшей,
где скушен ныне сад Нескучный.
Летун тяжеловесный Барлаха,
он раздувает ноздри жадно.
Он над Ордынкой и над
Балчугом —
горячий, грузный, медножабрый.
Там что ни ива, то плакучая,
там из воды подобьем краба
торчит, глаза свои выпучивая,
творенье юркого Зураба.
Что протрубит и что расслышим мы?
Быть может, только этот шорох,
с каким уходит время вышнее
в семипалатинские норы.
Оно сыпучее, текучее,
оно чужое и родное.
Хожу по городу и мучаюсь,
как безъязыкий гуманоид.
***
В цепкой темени столичной,
в судорогах суеты,
кружит ангел мой больничный,
белый-белый, как бинты.
Выхожу я утром гулким
в неуверенный мороз,
он мелькает в переулках,
словно блоковский Христос.
Ночью встанут карусели
и погаснет свет в окне,
он летит клочком метели
надо мною в вышине.
Подниму лицо навстречу,
слезы стынут, словно воск.
Что ты кружишь, что лепечешь,
мучишь крылья на износ?
Я люблю тебя, крылатый.
Помнишь жаркий тот озноб?
Ты влетал в окно палаты,
трогал мне ладонью лоб.
Он глаза свои закроет,
тихо скажет мне из тьмы —
буря мглою небо кроет
посреди твоей зимы.
Снега нет. Ночной порою
в чащах воет все зверье,
зря ты шляешься Москвою,
горло кутая свое.
Не даешь ты мне покою…
Мне, живущему меж звезд,
тоже снится над водою
неуклюжий метромост.
Ты стоишь, вцепясь в перила,
на воде белесый свет.
Мне не жалко белых крыльев,
жалко только, снега нет.
Нечем мне ему ответить,
у меня ни слов, ни тайн,
а его колышет ветер —
ангел мой, не улетай.
Дом Веневитинова в Кривоколенном переулке
Исчезал из глаз и снова
из метели выплывал
дом, в котором «Годунова»
Пушкин некогда читал.
Здесь на кухне моют ложки
и витает дух котлет,
тускло светятся окошки
вот уже две сотни лет.
Времена сегодня злые,
весь народ кругом знобит,
за спиной молчит Россия,
за окном метель гудит.
Но забыть не может Углич,
невысок и темнолиц:
из угла все бродит в угол
обреченный царь Борис.
И сквозь ветер одичалый
слышно — глухо хлопнет дверь,
кто-то смуглый и курчавый
удаляется в метель.
Нынче вечер непогожий,
ветер носит вдоль витрин
и безмолвие прохожих,
и шершавый шорох шин.
***
Жил Пьеро на станции Перово,
что по меньшей мере нездорово.
Как в сердцах заметила
Мальвина —
жизнь — не развеселая малина.
Оплыла Мальвина и поблекла,
стала не то брюква, не то свекла.
Он и сам утратил тонкость кости
сторожем в Кузьминках при погосте.
И давно к романтике не склонны,
свищут Буратины по притонам,
шушера, Шушара, мишура,
с Карабасом водку пьют с утра.
Песни здесь — на «ды», на «го», на «ду»,
про кирдык и Вологду-ду-ду,
Уч-Кудук, Надым, Караганду…
И Сидур, согнув гранит в дугу,
угадал про эту кергуду.
Я и сам порой здесь появляюсь,
как на фотоснимке проявляюсь,
сквозь метель, сквозь дымную пургу,
сам с собою сладить не могу.
Вечером бреду иль спозаранку,
жизнь свою читаю наизнанку
по своим же собственным следам…
Здесь, в чужих пределах и притинах,
все ищу волшебную картину,
где очаг затянут паутиной,
где не все уж так непоправимо,
где сверчок в рубашке из сатина
азбуку читает по складам.
***
Здесь, в промзоне, где тени остры и узки,
где бесцельно-причудливы все закоулки,
эти травы сквозь щебень, щелей сквозняки,
эти ржавые прутья и эти куски штукатурки.
Здесь беззвучно пылает огонь-флогистон,
полыхает, кипит, ничего никогда не сжигает.
Это бывшее все, замирающий стон или звон,
прототип чего нет и чего никогда не бывает.
Это лежбище легких, не алчных добыч,
словно бродишь в распахнутом настежь сезаме.
Это жизнь после жизни, лишь рыхлый кирпич
безучастными красными плачет слезами.
Здесь дыханье Капотни, Бирюлева дымы,
небеса изукрашены мелкою зернью,
Здесь градирни устойчивы, трубы прямы,
и московские реки уходят под землю.
Здесь чернеют меж прочих неясных вещей,
что безропотно приняли нравы суровых развалин,
очертанья могучих остывших печей,
многоцветные сколы шершавых окалин.
Это список утрат, безвозвратных потерь каталог,
что обернут густой, золотой мишурой паутины.
Не найдется того, кто осилить бы мог
пролистать его весь иль хотя бы до середины.
Почему мне так близок твой тесный простор,
почему так понятен угрюмый твой образ?
Здесь так кротко молчат, никому, ничему не в укор,
эта цвель, эта прель, безнадежные завязь и обрезь.
Вот и смотрит душа и всегда, и теперь
в этот сумрак безглазый, стозевный, безликий,
в эту вечную полуоткрытую дверь,
по которой взбегает тугая спираль повилики.
***
Куда я забрел? Все закрыто на переучет,
на переоценку, задвинуты плотно засовы…
В московском дворе, где и время почти не течет
и воздух спрессован.
деревья, качели, окошки и солнце меж ними вразброс,
как больно глядеть на его золотую полуду,
кого-то ругают, а он отвечает всерьез:
«Я больше не буду…»
Действительно, больше не буду.
Лермонтовская площадь
Из тьмы троллейбус вынырнул и встал
и вновь умчался с дребезгом тележным.
Как подстаканник круглый пьедестал,
на нем поэт мечтательно-мятежный,
но как бы озабоченный слегка,
что он, как перст, торчит на белом свете,
что оттопырил полу сюртука
весьма кустарно выполненный ветер.
Хотелось бы цитату привести —
жестокий век,
надменные потомки, —
но вновь троллейбус, провод сжав в горсти,
мгновенной вспышкой разорвет потемки.
Электровспышка застает врасплох
(вот так на стенд «Не проходите мимо» —
жестокий век! — снимают выпивох).
И мы уже рассматриваем снимок.
Высотный дом из светло-серых плит,
поет цикада родом из Тамани,
нет, не цикада — мелочью гремит
прохожий в оттопыренном кармане.
Хотелось бы задуматься, скорбя,
под шелест лип хотелось бы забыться,
но вновь пронзает воздух октября
электроангел с электрозеницей.
Шуршит листва, как будто дело в том,
чтобы цитату отыскать прилежно,
как будто выдан каждой липе том
с закладкой и пометкою небрежной,
как будто бы цитата подтвердит
весь этот мир, что только с бездной дружен,
а пение электроаонид
внесет гармонию в измученные души.
Нога скользит — как зыбок здесь гранит,
разверзлась пропасть — страшно без привычки,
кремнистый путь над бездною блестит,
и здесь поставить надо бы кавычки.
Прекрасен мир с приставкой электро-,
мир без приставки тоже нам приветен.
И вход в метро и выход из метро
как ноздри демона, вдыхающего ветер.
***
Ночью, под боком Москвы, куда —
неизвестно, но зато известно — откуда…
Над ноябрьским лесом скупая звезда,
за лесом погромыхивают поезда,
словно, вытерев, в буфет составляют посуду.
Мерзлые кочки, и путь крут,
обогнув планеты тяжелый круп,
узкий ветер грозит простудой…
Удавалось ли вам совершить круг
и вернуться туда — откуда?
Чтобы обдумать и дать ответ —
протяжное «нет» или
краткое «да» —
отвлечемся к деревьям: листвы нет,
и неизвестно теперь — когда.
***
Опять о деревьях, опять…
О, памяти сладкие муки.
Березы пресветлая прядь,
осины дрожащие руки.
Порою заметишь едва,
скользнув невнимательным взглядом, —
цветут ли? Опала листва?
Деревья всегда были рядом.
Почувствуешь легкий укол,
и вспомнится все, что забыто, —
то ясень из детства пришел,
раскинула ветви ракита.
Шершавые складки коры
как будто застывшие лица
людей, что ушли до поры,
чтоб годы спустя возвратиться.
И чудится времени лик,
когда над твоей головою
в Коломенском дуб шевелит
листвою восьмивековою.
***
Поземка тоньше, ветер злей,
как будто я в начале сказки.
Политехнический музей
стоит на склоне как салазки.
Вот-вот скользнет — толкни слегка
(сравненье требует развитья)
туда, где Яуза-река
течет в чешуйчатом граните.
Свернется холод в рукавах,
а на Солянке иль в Зарядье
как иней соль блеснет в словах
в неповторимом звукоряде.
Многоголосица Москвы,
поющий, акающий облик.
Чересполосица молвы,
цветущих слов горячий отблеск.
Городит сказка огород,
и вот, распахивая ворот,
над снежным городом встает
еще один — звучащий город.
Звучит, растет до облаков
в державной мощи, светлой силе,
как будто сорок сороков
враз, как один, заголосили.
В нем для тебя горит окно
и месяца блестит подкова.
Пускай дорогу замело —
тепло за пазухой у слова.
Ведь в слове копится тепло
и никогда не вымерзает.
Тебя морозом обожгло?
Заговори — гортань оттает.